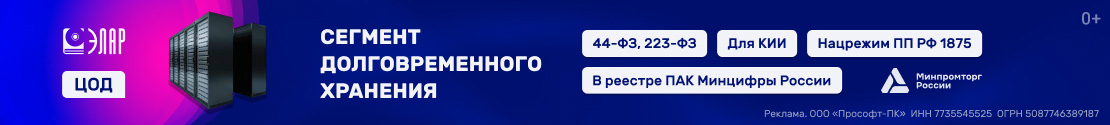Прежде чем рассказать эту историю, хочу предупредить вас о двух вещах. Во-первых, в ней не придумано ни слова, но не требуйте заверенных нотариусом бумаг: здесь всё — правда, в том виде, в каком я видел её и слышал от близких мне людей. Во-вторых, она не имеет никакого отношения к тому, о чём обычно идёт речь в моей колонке, да и собственно к бизнесу имеет отношение очень и очень далёкое. Хотя бы потому, что истории этой почти семьдесят лет, а начать рассказ стоит с события, случившегося ещё двадцатью годами раньше. С 1922 года, когда родился мой дед.
Мой дед по маминой линии, Георгий Иванович, родился на Украине, неподалёку от Киева, в зажиточной крестьянской семье. Четверо детей, своя земля, пасека, два вола, коровы, сотня кур. В 1929 году за отказ вступить в колхоз семью раскулачивают: отца расстреливают, мать с ребятишками высылают под Воркуту. Годом позже, надеясь вырваться из ссылки, они тайно отправляются в Москву (ловят, возвращают), бросив деда в чужой семье, как самого младшего, как обузу.
Его остаток детства и юность прошли на стройках ГУЛАГа, среди политзаключённых, вместе с другими беспризорниками. «Политические», у которых где-то там, в России, остались семьи, делились с пацанами своей (в те годы ещё щедрой) пайкой. Облава, детдом, побег, снова детдом, ремесленное училище в Сыктывкаре (водитель!), и — военкомат.
Великую Отечественную дед начал в пехоте. Но — счастливый случай! — попал за баранку и уже до самой Победы водил «трёхтонку». Тонул с сухарями на ночной Дороге жизни, возил снаряды, был ранен и контужен, лежал и сбегал из госпиталей, награждён орденами и медалями. Прошёл Европу и Германию, из которой осталась единственная его военная фотокарточка. В общем, всё как у всех.
Были и трофеи, но что мог вывезти с войны солдат? Весь его и запас — в заплечном мешке, да тайничке за водительским сиденьем. Короче говоря, единственное, что привёз дед с фронта — кусок вишнёвого цвета синтетической клеёнки, метра два на два, с тканевым исподом, мягкой, гладкой с лица. Для чего? Да кто ж теперь вспомнит. Углядел её однажды в брошенном немецком автомобиле и срезал на свои солдатские нужды. Стелил под ноги или на сиденье наверное.
После демобилизации дед вернулся на Север, но от безработицы быстро подался на Урал, возить лес. С войны не имея свидетельства о рождении, он мучился с временным, выдававшимся только на три месяца. И вот где-то в станционном посёлке под Свердловском, на Транссибе, обратился к девчонкам в паспортном столе, чтобы помогли справить постоянное. Ни дня, ни месяца рождения он не помнил, помнил только, что ещё при живом отце отмечали его весной. Так что в новом свидетельстве записали 9 мая, в честь Победы. И там же, в паспортном, встретил свою половинку.
Бабушка моя, Валентина Петровна, родилась в 1929 году в том самом посёлке, в большой семье железнодорожника. Война для неё — 300 грамм хлеба на человека, неурожай и голод 43-го, когда ноги опухали так, что месяц не могла дойти до школы, солдатские сухари, которыми раненые на проезжавших поездах делились с дежурившими на перроне ребятишками. К 1953-му, когда дед, не выдержав деревенской нищеты, записался на урановые рудники в Монголию, у них было уже трое детей.
В Монголии они прожили в общей сложности три года. Вернулись с деньгами: Советский Союз щедро содержал идеологических друзей. Переселились из казённого барака в свою избу, держали скотину, огород. Выросли, выучились в техникумах-институтах и разъехались кто куда дети. Моя мама оказалась в Свердловске, где родился я.
Первое воспоминание детства — снятые с эфира «Спокойной ночи, малыши!», единственная понятная и интересная мне телепередача: вожди мёрли, и мёрли, и мёрли. Гонки на катафалках — так, кажется, называют сейчас тот период? Считаю, мне повезло больше предков. Советского тоже досталось: гореть, а не тлеть (и это в семь лет!), октябрята, пионеры, псевдопартийные собрания, атомный мораторий, перестройка, Ельцин… Но Комсомол я уже не застал — Союз приказал долго жить.
Дед, как раз в начале 80-х вставший как ветеран войны (или инвалид? Кто вообще придумал это разделение?) в очередь на городскую квартиру, устав от бесконечного хождения по инстанциям, изредка цедил сквозь зубы: взять бы автомат…
Квартиру он получил ровно двадцать лет спустя, за год до смерти, при Путине, когда вышли все мыслимые и немыслимые сроки. Оценить подарок не смог: парализованный после инсульта, он уже ничего не понимал и жил только благодаря бабушке и детям. Но когда нынче мы схлестнулись с мамой после выборов, схлестнулись зло, до крика (да как, как можно не видеть, что страна продана, растоптана, когда мы смотрим, носим, едим, спим на всём, что сделано там, ТАМ!), бабушка только тихо улыбалась: я никогда не жила так хорошо.
И вот я прошу её перебрать старые вещи. Семьдесят лет прошло. Выросли дети, внуки, растут правнуки. Сгнили в могилах и советские, и фашистские вожди. Рухнула великая империя. Я зарабатываю на жизнь тем, даже смысл чего деду так и не смог объяснить — он пытался, я помню, но с улыбкой махал рукой, мол, бог с вами. Умер и дед. А я держу в руках ту самую клеёнку.
Семьдесят лет она лежала в ногах. Её стирали бесчисленное множество раз и стлали снова. Потом в избе, брошенная под кадушку с водой, она видела как рождаются и разъезжаются дети, как приезжают внуки. Когда дед слёг и бабушка переехала с ним к одной дочери, к другой, то захватила и клеёнку, и изредка усмехалась — вот делали же фрицы! Я держу её в руках. Она продавленная и побитая местами, но в общем — такая же мягкая и опрятная, какой была, наверное, когда дед присмотрел её в машине безвестного немецкого офицера.
Когда я сказал родным что хочу написать про «фашистскую клеёнку», они разве что не крутили у виска пальцем. Но по всему выходит, это самый качественный продукт в моей жизни. В жизни четвёртого уже поколения россиян. Немного жаль, что сделан не нами.